Иконопочитание
История и традиция почитания икон
Икона занимает особое место в православном вероучении, будучи не просто изображением, но и средством общения с Богом и святыми. Однако до сих пор почитателей икон упрекают в идолопоклонстве и нарушении заповедей: «да не будет у тебя других богов, не делай себе кумира того изображения, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся и не служи им» (Исх. 20: 2–5). Однако этот ветхозаветный запрет на изображение не имеет отношения к иконам. Его цель была в том, чтобы не допустить поклонения твари вместо Творца.
Иконы не изображают «других богов» – тех, которым поклонялись язычники. Кроме того, в Ветхом Завете можно найти указание Божие сделать медного змия, двух херувимов на крышке Ковчега Завета, и все это находилось в святая святых Храма. Запрет на изображение Бога объяснялся невозможностью изобразить Его: «Бога не видел никто никогда» (Ин. 1: 18). В Ветхом Завете, пишет Иоанн Дамаскин, «общение Бога со своим народом происходило в голосе. Не видя образа Божия, не могли Его изображать, могли только письменно закрепить слова Бога».
Иконы не изображают «других богов» – тех, которым поклонялись язычники. Кроме того, в Ветхом Завете можно найти указание Божие сделать медного змия, двух херувимов на крышке Ковчега Завета, и все это находилось в святая святых Храма. Запрет на изображение Бога объяснялся невозможностью изобразить Его: «Бога не видел никто никогда» (Ин. 1: 18). В Ветхом Завете, пишет Иоанн Дамаскин, «общение Бога со своим народом происходило в голосе. Не видя образа Божия, не могли Его изображать, могли только письменно закрепить слова Бога».
Иоанн Дамаскин указывает на принципиальное различие: «в Ветхом Завете откровение осуществляется в слове, в Новом Завете и в слове, и в образе, ибо Невидимый стал видим». С Боговоплощением Христа невидимый Бог, по словам Дамаскина, «восхотевший явиться», стал доступен нашему чувственному восприятию: «когда увидишь Бестелесного ради тебя вочеловечившегося, тогда будешь делать изображение человеческое Его вида». Как замечал другой активный защитник иконопочитания, Феодор Студит, хотя в Новом Завете нигде не сказано, что нужно писать или почитать иконы, Спаситель также не велел ничего записывать, однако апостолы создали Его образ, сохранившийся на века.
Иконография Православной Церкви основана на двух образах: Христа – Бога, ставшего человеком, и Богородицы – первого человека, достигшего полного обожения. После Боговоплощения стало возможно изображать также и пророков и праотцев Ветхого Завета как представителей человечества, уже искупленного кровью Сына Божия. Примечательно, что, согласно церковному Преданию, первая икона Христа – Нерукотворный Спас, а первые иконы Богоматери приписываются ап. Луке. Опасность идолопоклонства потеряла актуальность: как пишет Иоанн Дамаскин, «мы получили от Бога способность различать, что м.б. изобразимо и что не м.б. выражено посредством изображения».
Иконография Православной Церкви основана на двух образах: Христа – Бога, ставшего человеком, и Богородицы – первого человека, достигшего полного обожения. После Боговоплощения стало возможно изображать также и пророков и праотцев Ветхого Завета как представителей человечества, уже искупленного кровью Сына Божия. Примечательно, что, согласно церковному Преданию, первая икона Христа – Нерукотворный Спас, а первые иконы Богоматери приписываются ап. Луке. Опасность идолопоклонства потеряла актуальность: как пишет Иоанн Дамаскин, «мы получили от Бога способность различать, что м.б. изобразимо и что не м.б. выражено посредством изображения».
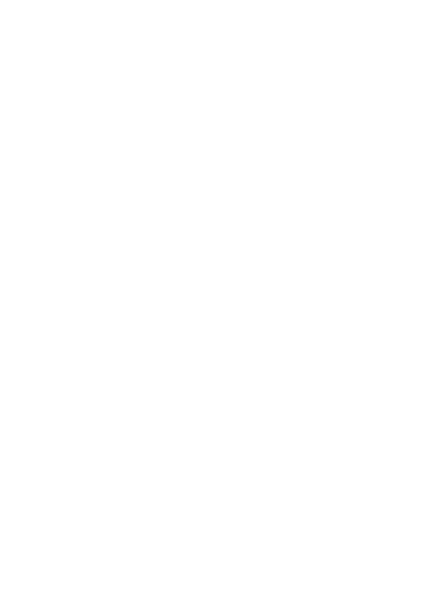
Иоанн Дамаскин
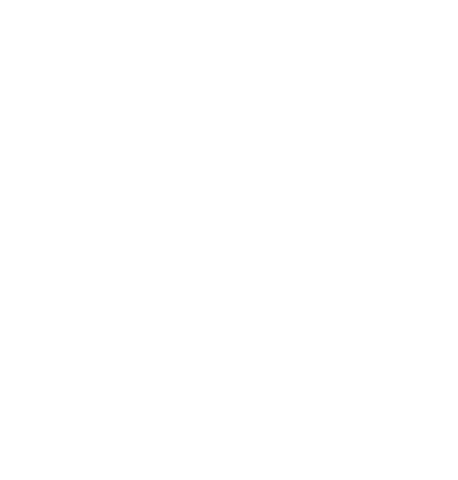
Иисус Христос. Фреска из катакомб Коммодиллы. Конец IV века
Поклонение и почитание икон
В связи с отношением к иконе различают два понятия: поклонение и почитание. Поклонение может относиться только к Богу, а почитание – к святым, к ангелам, а также к мощам, иконам, реликвиям. Почитание Библии объясняется поклонением не «естеству кож и чернил», но заключенному в ней Слову Божиему. Точно также в иконе почитают не материалы, краски и доски, а Того, Чей образ написан красками на доске.
В первые века христианства иконопочитание не имело привычного нам значения и распространения. На фресках катакомб встречаются изображения Богоматери и апостолов, однако преобладают символические изображения: Христос как Добрый Пастырь, Орфей, виноградная лоза, агнец, рыба и т.п. Это можно объяснить как стремлением сохранить тайну для посвященных и нежеланием обращаться к живописи как искусству язычников, так и тем, что язык иконы тогда только складывался.
Пято-Шестой (Трулльский) Собор (692 г.) в контексте борьбы с ересями постановил заменить символ прямым образом: по выражению Л.Успенского, «опровергать христологическую ересь образом рыбы или агнца невозможно». Икона открывала особые возможности в утверждении точного православного вероучения. По словам Германа, патриарха Константинопольского, «изображение образа Господня на иконах по человеческому Его виду служит к посрамлению еретиков, которые уверяют, что Он вочеловечился лишь призрачно, а не действительно» .
В связи с отношением к иконе различают два понятия: поклонение и почитание. Поклонение может относиться только к Богу, а почитание – к святым, к ангелам, а также к мощам, иконам, реликвиям. Почитание Библии объясняется поклонением не «естеству кож и чернил», но заключенному в ней Слову Божиему. Точно также в иконе почитают не материалы, краски и доски, а Того, Чей образ написан красками на доске.
В первые века христианства иконопочитание не имело привычного нам значения и распространения. На фресках катакомб встречаются изображения Богоматери и апостолов, однако преобладают символические изображения: Христос как Добрый Пастырь, Орфей, виноградная лоза, агнец, рыба и т.п. Это можно объяснить как стремлением сохранить тайну для посвященных и нежеланием обращаться к живописи как искусству язычников, так и тем, что язык иконы тогда только складывался.
Пято-Шестой (Трулльский) Собор (692 г.) в контексте борьбы с ересями постановил заменить символ прямым образом: по выражению Л.Успенского, «опровергать христологическую ересь образом рыбы или агнца невозможно». Икона открывала особые возможности в утверждении точного православного вероучения. По словам Германа, патриарха Константинопольского, «изображение образа Господня на иконах по человеческому Его виду служит к посрамлению еретиков, которые уверяют, что Он вочеловечился лишь призрачно, а не действительно» .
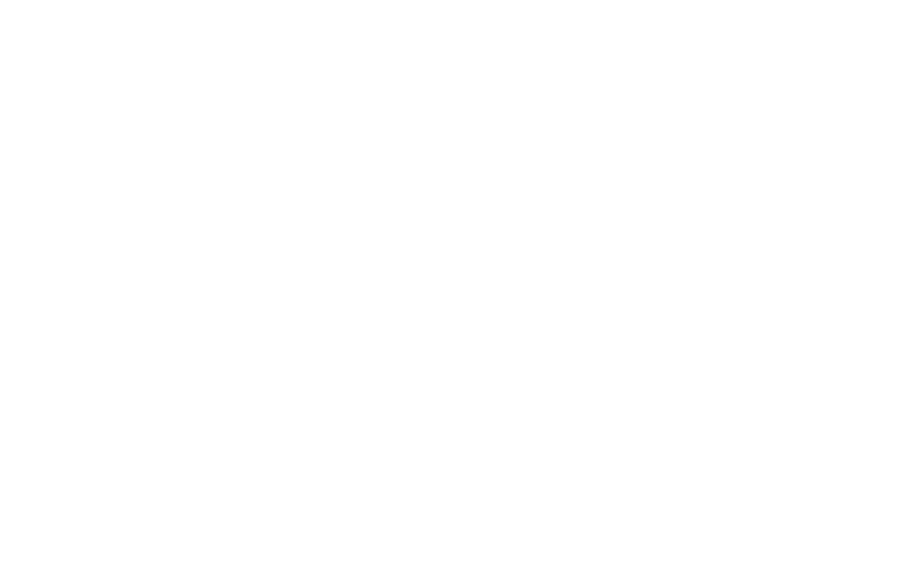
Иконоборчество в Византии. Книжная миниатюра
Период иконоборчества
VIII–XI века в истории Церкви знаменательны иконоборчеством. Причины его были разнообразны. Значительную роль сыграли политические разногласия между императором и аристократией с одной стороны и монашеством (основными защитниками иконопочитания) с другой. Не обошлось без влияния мусульманства и иудаизма, а также христианских ересей и сект, которые, при всех различиях, объединяло неприятие священных изображений. Широкое распространение икон привело к появлению связанных с ними суевериям и странных формам почитания, больше похожим на профанацию. Иконы вводили в Таинство Крещения в качестве духовных родителей, к Святым дарам подмешивали соскобленные с икон краски, изображениями святых украшали одежды. Подобные факты недолжного отношения к иконам привели к эпохе иконоборчества, охватывающей около сотни лет.
В 726 г. византийский император Лев Исавр издает указ, запрещающий почитание икон, а в 730 г. другой, предписывающий уничтожение икон. Первым актом иконоборчества было уничтожение чудотворного образа Спасителя над входом в императорский дворец. В.Лепахин систематизирует направления иконоборчества: богословское отрицание иконы, отвержение иконопочитания (икону оставляли в храме, помещая на такую высоту, чтобы к ней нельзя было приложиться), физическое уничтожение икон, гонения на иконопочитателей. Согласно решению иконоборческого собора 754 г. за почитание икон клириков лишали сана, монахов и мирян предавали анафеме.
Последующие императоры также поддерживали иконоборчество, но в более умеренных формах. Только при императрице Ирине в 787 г. был созван VII Вселенский собор, который вернулся к православию, утвердив почитание икон и мощей. Однако через 27 лет при императоре Льве Армянине, считавшем, будто правители-иконоборцы были более успешны, начался второй период иконоборчества, продлившийся до середины IX в. Уже при императрице Феодоре в 843 г. Константинопольский собор окончательно утвердил иконопочитание и установил празднование Торжества Православия в первое воскресенье Великого поста.
Иконоборчество привело к потере многих святынь и произведений искусства, стало причиной преследований и мучений христиан, которые твердо придерживались православия. Но в то же время полемика с иконоборцами позволила Церкви уточнить догматику и максимально разработать свою теорию иконопочитания как один из центральных моментов вероучения. Как пишет Л.Успенский, «для Церкви катастрофа иконоборчества оказалась торжеством. До тех пор многим недоставало капитальной важности Церковного искусства. В огне борьбы Церковь нашла слова, выражающие богатство и глубину ее учения».
Полемика вокруг иконопочитания оказалась тесно связана с вопросом Боговоплощения. Отрицание иконы вело к отрицанию Боговоплощения, а оно, в свою очередь, к отрицанию спасения человечества. Икона, таким образом, понималась не как произведение изобразительного искусства, но как богословский аргумент. По выражению Л.Успенского, «икона – ручательство истинности воплощения» (Усп 89).
Иконоборцы считали, будто икона неспособна передать истинное соотношение природ Христа. С такой точки зрения, если попытаться изобразить вместе человеческую и Божественную природу, получится ересь монофизитства, если же изобразить только человеческую плоть, отделив ее от Божества, выйдет ересь несторианства. При этом они не учитывали, что икона изображает не природу, а личность (ипостась). По словам Иоанна Дамаскина, «сущность (т.е. природа) не имеет самостоятельного бытия, но усматривается в личностях».
Феодор Студит утверждал, что любое изображение конкретно. Икона изображает не Божество, не человечество Спасителя, но Его ипостась, соединяющую в себе эти две природы неслиянно и нераздельно. Лицо Христа «„описуемо", но не по Божественной природе, которую никто никогда не видел, а по природе человеческой, ставшей видимой в Лице [Сына]...». По логике Феодора Студита, отрицание возможности иконы Христа приводит к отрицанию того, что Слово стало плотью, а значит, вочеловечение Христа оказывается не более чем фантазией. Как пишет О.Давыденков, «если бы Христос был неизобразим, то отсюда следовало бы заключить, что Он во время Своей земной жизни был невидим, тогда и Евангелие было бы невозможно, т.к. оно тоже есть образ воплощенного Бога, Его словесная икона».
С другой стороны, по замечанию С. Булгакова, «потребность иметь с собой и пред собой икону вытекает из конкретности религиозного чувства, которое не удовлетворяется одним только духовным созерцанием, но ищет и непосредственной, осязательной близости, как это естественно для человека, состоящего из души и тела». Человеку, как существу душевно-телесному, требуется пища не только для духа, но и для чувств.
Итак, икона Иисуса Христа не только не противоречит богословской догматике, но своими специфическими средствами подтверждает ее. «На иконе изображается не Иисус человек (одна природа) и не Сын Божий (другая природа), а Иисус Христос Богочеловек (Ипостась), пребывающая Богочеловеком и по восшествии к Отце, в седении одесную Его». Это подчеркивают надписи на иконе Спасителя: на крещатом нимбе ΟΩΝ – имя Божие, открытое в Ветхом Завете Моисею, а по сторонам лика – Иисус Христос, имя Сына человеческого (Лепахин).
Как отмечает Л.Успенский, икона связана со своим прототипом не в силу тождества с ним, а тем, что она изображает его личность и носит его имя. Именно поэтому «честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу», по формулировке Отцов VII Вселенского Собора. В. Лепахин подчеркивает, что «икона – не просто изображение. Это и изображение, и мысленный его образ, и образ и Первообраз, единство которых понимается в богословии иконы как реальное „присутствие" в изображении Божественной энергии оригинала». Таким образом, становится ясно, что выступая против человеческого образа Бога, иконоборцы отрицали возможность освящения материи и обожения человека.
Почитание образа настолько связано с поклонением Первообразу, что в эпоху иконоборчества христиане шли на муки, лишь бы не попрать иконы. Среди таких исповедников были братья Феодор и Феофан Начертанные, монахи, ставшие преподобномучениками. Прп. Феодор отказался причаститься вместе с иконоборцами и тем самым согласиться с отрицанием икон: «Это всё равно, как бы вы сказали: „Мы только отрубим тебе голову, а потом иди куда хочешь"». Начертанными братьев-исповедников стали называть после того, как в наказание за сопротивление иконоборчеству на их лицах выжгли («начертали») позорные стихи. Подвиги святых, принявших мучения за твердость в иконопочитании, показывают истинное значение иконы для православного человека и укрепляют в вере и верности.
VIII–XI века в истории Церкви знаменательны иконоборчеством. Причины его были разнообразны. Значительную роль сыграли политические разногласия между императором и аристократией с одной стороны и монашеством (основными защитниками иконопочитания) с другой. Не обошлось без влияния мусульманства и иудаизма, а также христианских ересей и сект, которые, при всех различиях, объединяло неприятие священных изображений. Широкое распространение икон привело к появлению связанных с ними суевериям и странных формам почитания, больше похожим на профанацию. Иконы вводили в Таинство Крещения в качестве духовных родителей, к Святым дарам подмешивали соскобленные с икон краски, изображениями святых украшали одежды. Подобные факты недолжного отношения к иконам привели к эпохе иконоборчества, охватывающей около сотни лет.
В 726 г. византийский император Лев Исавр издает указ, запрещающий почитание икон, а в 730 г. другой, предписывающий уничтожение икон. Первым актом иконоборчества было уничтожение чудотворного образа Спасителя над входом в императорский дворец. В.Лепахин систематизирует направления иконоборчества: богословское отрицание иконы, отвержение иконопочитания (икону оставляли в храме, помещая на такую высоту, чтобы к ней нельзя было приложиться), физическое уничтожение икон, гонения на иконопочитателей. Согласно решению иконоборческого собора 754 г. за почитание икон клириков лишали сана, монахов и мирян предавали анафеме.
Последующие императоры также поддерживали иконоборчество, но в более умеренных формах. Только при императрице Ирине в 787 г. был созван VII Вселенский собор, который вернулся к православию, утвердив почитание икон и мощей. Однако через 27 лет при императоре Льве Армянине, считавшем, будто правители-иконоборцы были более успешны, начался второй период иконоборчества, продлившийся до середины IX в. Уже при императрице Феодоре в 843 г. Константинопольский собор окончательно утвердил иконопочитание и установил празднование Торжества Православия в первое воскресенье Великого поста.
Иконоборчество привело к потере многих святынь и произведений искусства, стало причиной преследований и мучений христиан, которые твердо придерживались православия. Но в то же время полемика с иконоборцами позволила Церкви уточнить догматику и максимально разработать свою теорию иконопочитания как один из центральных моментов вероучения. Как пишет Л.Успенский, «для Церкви катастрофа иконоборчества оказалась торжеством. До тех пор многим недоставало капитальной важности Церковного искусства. В огне борьбы Церковь нашла слова, выражающие богатство и глубину ее учения».
Полемика вокруг иконопочитания оказалась тесно связана с вопросом Боговоплощения. Отрицание иконы вело к отрицанию Боговоплощения, а оно, в свою очередь, к отрицанию спасения человечества. Икона, таким образом, понималась не как произведение изобразительного искусства, но как богословский аргумент. По выражению Л.Успенского, «икона – ручательство истинности воплощения» (Усп 89).
Иконоборцы считали, будто икона неспособна передать истинное соотношение природ Христа. С такой точки зрения, если попытаться изобразить вместе человеческую и Божественную природу, получится ересь монофизитства, если же изобразить только человеческую плоть, отделив ее от Божества, выйдет ересь несторианства. При этом они не учитывали, что икона изображает не природу, а личность (ипостась). По словам Иоанна Дамаскина, «сущность (т.е. природа) не имеет самостоятельного бытия, но усматривается в личностях».
Феодор Студит утверждал, что любое изображение конкретно. Икона изображает не Божество, не человечество Спасителя, но Его ипостась, соединяющую в себе эти две природы неслиянно и нераздельно. Лицо Христа «„описуемо", но не по Божественной природе, которую никто никогда не видел, а по природе человеческой, ставшей видимой в Лице [Сына]...». По логике Феодора Студита, отрицание возможности иконы Христа приводит к отрицанию того, что Слово стало плотью, а значит, вочеловечение Христа оказывается не более чем фантазией. Как пишет О.Давыденков, «если бы Христос был неизобразим, то отсюда следовало бы заключить, что Он во время Своей земной жизни был невидим, тогда и Евангелие было бы невозможно, т.к. оно тоже есть образ воплощенного Бога, Его словесная икона».
С другой стороны, по замечанию С. Булгакова, «потребность иметь с собой и пред собой икону вытекает из конкретности религиозного чувства, которое не удовлетворяется одним только духовным созерцанием, но ищет и непосредственной, осязательной близости, как это естественно для человека, состоящего из души и тела». Человеку, как существу душевно-телесному, требуется пища не только для духа, но и для чувств.
Итак, икона Иисуса Христа не только не противоречит богословской догматике, но своими специфическими средствами подтверждает ее. «На иконе изображается не Иисус человек (одна природа) и не Сын Божий (другая природа), а Иисус Христос Богочеловек (Ипостась), пребывающая Богочеловеком и по восшествии к Отце, в седении одесную Его». Это подчеркивают надписи на иконе Спасителя: на крещатом нимбе ΟΩΝ – имя Божие, открытое в Ветхом Завете Моисею, а по сторонам лика – Иисус Христос, имя Сына человеческого (Лепахин).
Как отмечает Л.Успенский, икона связана со своим прототипом не в силу тождества с ним, а тем, что она изображает его личность и носит его имя. Именно поэтому «честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу», по формулировке Отцов VII Вселенского Собора. В. Лепахин подчеркивает, что «икона – не просто изображение. Это и изображение, и мысленный его образ, и образ и Первообраз, единство которых понимается в богословии иконы как реальное „присутствие" в изображении Божественной энергии оригинала». Таким образом, становится ясно, что выступая против человеческого образа Бога, иконоборцы отрицали возможность освящения материи и обожения человека.
Почитание образа настолько связано с поклонением Первообразу, что в эпоху иконоборчества христиане шли на муки, лишь бы не попрать иконы. Среди таких исповедников были братья Феодор и Феофан Начертанные, монахи, ставшие преподобномучениками. Прп. Феодор отказался причаститься вместе с иконоборцами и тем самым согласиться с отрицанием икон: «Это всё равно, как бы вы сказали: „Мы только отрубим тебе голову, а потом иди куда хочешь"». Начертанными братьев-исповедников стали называть после того, как в наказание за сопротивление иконоборчеству на их лицах выжгли («начертали») позорные стихи. Подвиги святых, принявших мучения за твердость в иконопочитании, показывают истинное значение иконы для православного человека и укрепляют в вере и верности.
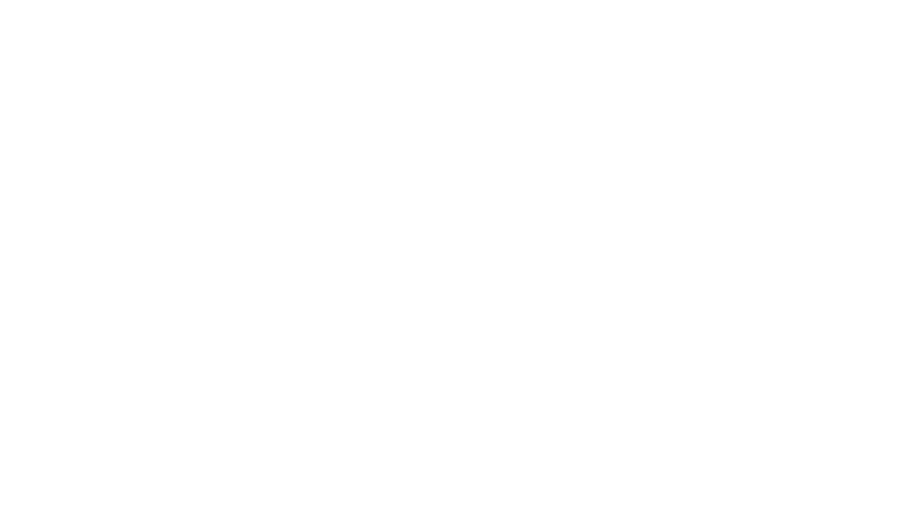
Торжество Православия
Поскольку «честь, воздаваемая образу, переходит к первообразу», мы молимся не иконе как артефакту, но тому, кто изображен на иконе, так же, как глядя на фотографию близкого человека, мы видим как бы его самого, а не кусок бумаги. Отцы VII Вселенского Собора утверждали: «чем чаще видим мы иконы, тем чаще подвизаемся вспоминать и любить первообраз». По словам И.Языковой, икона учит предстоянию перед Богом лицом к лицу, «созерцание иконы – это молитвенный акт, в котором постижение смысла красоты переходит в постижение красоты смысла. Назначение иконы в том, чтобы содействовать молитве». Этому способствует и эстетическая сторона иконы: красота, по словам В.Лепахина, усладжает зрение и незаметно открывает душе славу Божию.
Человек предстоит перед иконой как перед самим Богом и Его святыми угодниками. Икона открывает человеку возможность непосредственного общения с Богом и со святыми. Она не только помогает человеку не только обращаться к Богу, но и получать ответ – Божию благодать. «Благодать, стяжанная при жизни святым, пребывает в его иконе». Об этом свидетельствуют чудесные исцеления, мироточение, обновление икон.
Человек предстоит перед иконой как перед самим Богом и Его святыми угодниками. Икона открывает человеку возможность непосредственного общения с Богом и со святыми. Она не только помогает человеку не только обращаться к Богу, но и получать ответ – Божию благодать. «Благодать, стяжанная при жизни святым, пребывает в его иконе». Об этом свидетельствуют чудесные исцеления, мироточение, обновление икон.
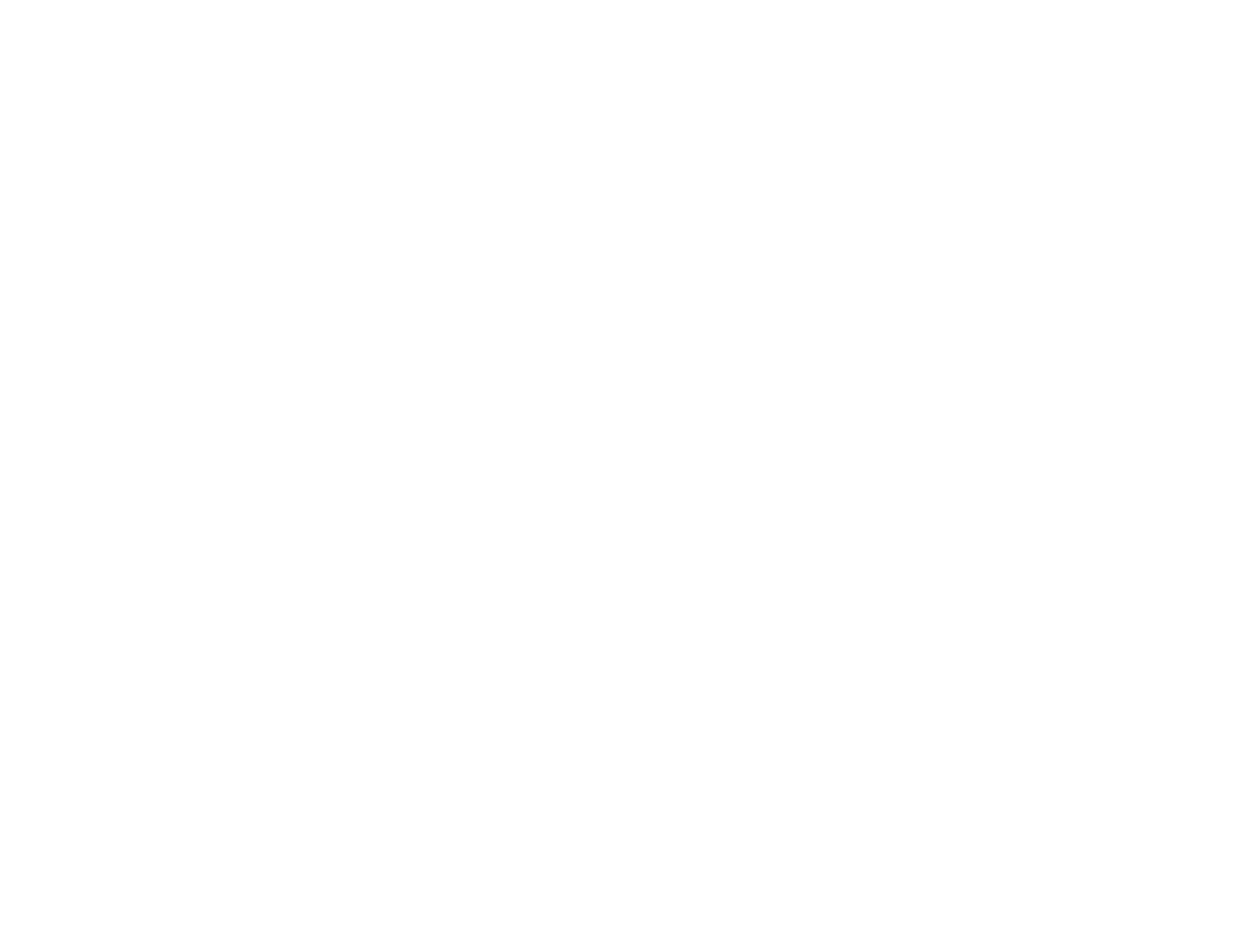
Иконописный канон: время менять парадигму
Почему концепция «языка церковного искусства» может стать альтернативой
(статья с журнала «Дары», Москва-2019)
Новое эссе сербского иконописца и искусствоведа Тодора Митровича очень созвучно тем дискуссиями которые идут в России в последние годы. Понимание канона как свода жестких и неизменных правил стало одной из главных причин тех кризисных тенденций, которые всё более заметны в современной иконописи. Но если отказаться от юридического, формально нормативного подхода, что же тогда останется? Автор убежден, что в наш язык должны вернуться такие понятия как канон истины и канон благочестия.
«Эти иконы написаны по канонам?» Вопрос, который часто задают современному иконописцу, звучит как вопрос, обращенный к инженеру: «это здание построено в соответствии с существующими нормами (Ведь, если нет, оно обрушится нам на голову...) Или, если мы постараемся согласовать метафорику с потребностями религиозного контекста, этот вопрос мог бы прозвучать как типичная ветхозаветная законническая дилемма (например, производителя продуктов: питания): «эта еда кошерная или нет?
Сразу же ясно, что мы говорим об абсолютно экоклюзивистской когнитивной позиции, предполагающей, что правильное церковное искусство появится — практически по волшебству — если произведение создано в соответствии с «таинственным» рецептом, Таким образом, если представить себе, что этот вопрос задает заказчик иконы, то появляется совершенно эксклюзивный товар для эксклюзивной группы потребителей. Таковым его делают правила, по которым он произведен. Использовать его не запрещено и «других но для членов группы, которая хочет выделиться/определиться, он обязателен и является важным аспектом ее идентичности.
К сожалению, опущение полемики до базарного уровня — не пародия, во всяком случае, когда речь идет преимущественно о православных сообществах, ведь эта эксклюзивная группа не так уж малочисленна. Современные иконописцы слишком часто соглашаются на роль торговца, довольно потирая руки над заработком, который и создает описанный религиозный контекст: товар, изготовленный по традиционной рецептуре, учитывая ее ни больше ни меньше как тысячелетнее существование, естественно, гарантирует качество и благосклонность к ней рынка, на котором православные конфессиональные рамки требуют «стандартизации качества». Это естественным образом привело к появлению необычных компаний по производству «рукописных» икон, чьи совершенно стандартизованные, а точнее, идентичные «товары» наводняют рынок религиозных «благ», а эстетика без выражения, которую это наводнение рекламирует как эксклюзивно «церковную, шаг за шагом внедряется и в иконостасы (или стены) важнейших православных храмов. И, наконец, в этой стабильной производственно экономико-пропагандистской сети у всех есть возможность остаться совершенно довольными: во-первых, производственный процесс надежный, стабильный и дешевый, поскольку не обременяет художника/производителя лишними дилеммами и решениями; во-вторых, заказчик/покупатель доволен, поскольку получает стабильное качество по пристойной цене; и, наконец, в-третьих, церковноначалие довольно, поскольку продукция икон постоянно растет, следуя многовековой церковной традиции. Короче, и стандарт, и удобство, и гарантия обеспечены всем участникам этой религиозно-рыночной игры.
Наконец, слова, с помощью которых знаменитый Французский исследователь Адольф Наполеон Дидрон в далеком 1845 году описал византийское искусство применительно к устоявшемуся таким образом социальному договору, звучат как пророческая формула «неовизантийского» возрождения живописи: «Греческий художник — раб теолога, Его работа — модель для его наследников точно так же, как и копия работ его предшественников. Художник связан традицией, как животное связано инстинктами. Он производит изображения так же, как ласточка вьет свое гнездо, а пчела делает улей. Он отвечает только за исполнение, в то время как о замысле и об идее позаботились его предки, теологи, Кафолическая Церковь». К счастью, искусствоведение — ни на западе, ни на востоке Европы — не приняло столь одностороннюю и упрощенную категоризацию в процессе развития когнитивного аппарата, который даст ей возможность увидеть в византийском искусстве одно из самых оригинальных и наиболее возвышенных (изобразительных) выражений европейского культурного наследия. С другой стороны, к сожалению, какой то невидимый консенсус, мотивированный/генерированный ожидаемым, но иррациональным страхом потерять только что открытую традицию, превращает Православную Церковь в преемницу мрачной «мантры» Дидрона. Это консенсус обрекает новообразовавшиеся искусство стать бледной тенью того наследия, которое оно должно было оживить. Однако создается впечатление, что конец ХХ — начало ХХI века все-таки внесли некоторые изменения в отношение Церкви к изобразительному искусству, как в богословском, лак и в художественном плане.
Вначале стоит задаться вопросом, существует ли какой-нибудь другой подход к парадигме канона, отличающийся от юридического, нормативного (трудно избежать слова стерильного), полноценно обосновавшегося в современном восприятии и исполнении церковного искусства? Кажется, история самого термина монет подтолкнуть к некоторым размышлениям. «В первые три века [слово] канон (κανών) служит в первую очередь для того, чтобы подчеркнуть то, что для христианства является внутренним законом и обязательной нормой.
Маловероятно, что оно когда-то употреблялось во множественном числе» В своих трех вариантах это слово играет значительную роль в ранней Церкви: как канон истины, как канон благочестия/веры и как канон Церкви, или церковности, С IV века происходит серьезная (решающая) перемена: «к общему употреблению добавляется описание некоторых объектов в церкви словом канон (κανών) или канонический (κανονικός). Следовательно, слово канон начинает употребляться во множественном числе и обозначать список: 1) список соборных решений — отсюда каноническое право, 2) список книг Священного Писания — канон Ветхого и Нового Завета, или 3) список священства и монашества одной области (епархии). Тем самым эта мера истины, благочестия и церковности, которая первоначально была ближе к таким общим понятиям, как традиция или предание, приобрела административную форму списка или
каталога, которая, в свою очередь, больше ассоциируется с такой формализованной, нормированной областью познания, как например, право, логика или, наконец, (выше уже употреблявшееся метафорически) строительство. Поскольку понятно, что, несмотря на многочисленные богословские познания нашего времени, современная церковная жизнь все же руководствуется дисциплиной, нехарактерной для ранней Церкви, а появившейся в имперских рамнах, совершенно естественно и то, что концепт канона/каноничности мы унаследовали именно в той форме, в которой его предоставила культура империи с Босфора, Однако чем же эти стародавние изменения парадигмы могут быть важны в разговоре о современном церковном искусстве?
Природа иконописного канона: существуют ли правила и где они записаны?
Тема, однако, становится еще более интересной, когда мы понимаем, что, если речь идет конкретной церковной художественной практике, то списка/каталога канона в действительности никогда не существовало. Соборные каноны определяют сам факт того, что иконы надо писать, но совершенно не описывают способ, как это будет выполняться. Единственное оставшееся место, где можно было бы встретить какой-либо список художественных правил, это старые руководства для живописцев, Однако инструкции, которые предлагаются в этих руководствах, это очень нечеткие «каноны»: они слишком обобщены и могут применяться к совершенно разным стилистическим решениям. Кроме, например, факта, что фигура на иконе пишется с помощью роскрыши — от темного (и холодного) слоя (проплазмы) к более светлым (теплым) высветлениям (инкарнату), по этим инструкциям трудно чему-либо научиться, Более того, их строгое применение, в сочетании с развившейся репродуктивной техникой и специфической эстетикой, которую она порождает, привело в современной иконописи к очень холодным и стерильным художественными результатам, которые ни в чем не могут сравниться с оригинальными византийскими решениями. Современная иконопись, как кажется, вопреки своему величественному предку, — истинное воплощение сомнительных слов Дидрона, которые мы привели в начале, Что мешает современным иконописцам, применив эти простые и общие правила ремесла, записанные в руководствах, создать шедевры живописи и богословия такими, какими были их средневековые образцы?
Цитата: Поскольку непрерывность художественного предания нарушена, очевидно, что не существует способа добраться до его устного аспекта, Тех, кто был его носителем, попросту больше нет в живых.
Неизбежно предположение, что кроме того, что записано в руководствах, существовало и множество рекомендаций, основанных на конкретной живописной практике или выведенных из теории, которые просто не были записаны. Похоже, что именно эти рекомендации и повлияли на то, что средневековая живопись несопоставимо глубже и живее свидетельствует о вере той Церкви, которая ее породила, чем сегодняшняя. Информацию, которую содержали эти рекомендации, можно обозначить как незаписанное художественное церковное предание. Поскольку предание прервано, то и неуди вительно, что сложнее всего восстановить именно его не записанную часть. Также вполне онидаемо, что без этой «базы», которая, судя по всему, была очень значительной, современное церковное искусство выглядит крайне обедненным — и в художественном, и в богословском смысле.
Но имеет ли вообще смысл говорить о чем то, что нам недоступно? Поскольку непрерывность художественного предания нарушена, очевидно, что не существует способа добраться до его устного аспекта. Тех, кто был его носителем, попросту больше нет в живых. По счастью, слово «устное» мы должны воспринимать крайне условно. В то время как богословы свои толкования, в чьих изменениях естественно сублимируется и то, что можно назвать устным богословским преданием, испытывали потребность постоянно, и обширно записывать, художники в этом вопросе были не слишком усердны. Просто потому, что свое предание они записывали кистью и красками, Их «устное» предание уже содержится в самих иконах, поэтому у них и не было потребности писать схолии к своим руководствам. Вернее даже сказать, что их руководства и были своеобразными (педагогическими) схолиями к основному художественному тексту, зафиксированному на расписанных поверхностях. В этом смысле следовало бы пересмотреть соотношение центральной и периферийной тематики. Может быть, стоит просто признать, что то, что в современном дискурсе об иконе — благодаря, среди прочего, не критичному подходу
к древним руководствам — становится центральной темой, когда-то было лишь свовобразной технической схолией. Поэтому нет ничего удивительного, что этот жанр переживает расцвет именно во времена угасания традиции, которую он пытается увековечить.
Таким образом, незаписанное предание, которое от нас как-то ускользает при чтении старых художественных руководств, содержится (записано) в самой теме, которую они толкуют— конкретных художественных произведениях, К этой теме средневековый ученик: подходил, наблюдая за творениями учителя и за тем, как они появлялись. Сейчас мы уже можем уточнить: созерцательная, а не устная линия предания прервана. Единственный способ ее обновить — попытаться более основательно и без предрассудков познакомиться с конкретными произведениями истории церковного искусства, Только внимательное наблюдение и различение постоянных, изменяемых или же произвольных элементов, составляющих развитие языка иконы на протяжении истории, может помочь нам постепенно научиться читать на этом языке. Без внимательного знакомства с живым художественным языком истинных шедевров изучение руководств оказалось бесполезной работой. Только тогда, когда мы научимся читать, можно будет приступать к письму.
Возможен ли «лингвистический поворот».
с опозданием?
Наконец у нас появилась метафорика, которая могла бы нам помочь вынести идею канона за техническо-юридические рамки, которые, как видно, не слишком способствовали сохранению изначального характера церковного искусства. И что же произойдет, если то, что определяет связь церковного искусства с традицией, мы обозначим не понятием канон, а понятием язык? Вернее, что случится, если нормативный аспект церковного искусства приобретет языковой семантический признан? Такое отождествление канона и языка — для современной теории (искусств) было бы более чем естественной (и нисколько не инновационной) идеей. Однано у церновного искусства не было возможности испытать какую бы то ни было форму лингвистического поворота», оно, судя по всему, до сих пор придерживается 19-векового когнитивного заблуждения, которое сформулировал, например, Дидрон.
Забудет ли церковное искусство свою традицию, если лишить ее военной дисциплины и перенести ее на менее жесткую «лингвистическую» модель? Выше мы установили, что именно ранняя история церковного употребления понятия нанон может отсылать к чему то совершенно противоположному. Слово канон тогда, как и слово язык сейчас, используются в единственном числе, и под ними можно понимать живые и слоеные коммуникативные структуры, основанные именно на традиции. Языковые нормы, в сущности, постоянно требуют живого отношения к (языковой) традиции. Именно поэтому языки не умирают с легкостью, так же как и с легкостью не возрождаются. Современная теория, которая давно забыла про отвержение любых правил, свойственное авангардизму, предполагает, что без каких-либо заранее (в близком или далеком прошлом) обозначенных языковых рамок — которые в нашем контексте можно было назвать и словом традиция — не может существовать ни одна форма коммуникации. Кажется, что в таких рамках и традиционный/конвенциональный, и художественный/экспрессивный аспекты церковной живописи могут быть в выигрыше, Языковые структуры очень консервативны и не склонны к изменениям, не из-за какой-то идеологии, которая бы этого требовала, а из-за базовой потребности в понимании. Изменения в языке происходят нелегко, потому что язык — это не частная собственность, а поэтому и не подлежит капризам индивидуумов. Можно, например, всю жизнь называть яблоко стулом, а стул яблоком, но тогда люди каждый раз будут над тобой (в лучшем случае) смеяться. Точно так же, с другой стороны, язык удивительно динамичная структура, которая постоянно меняется и преобразуется, давая возможность каждому индивидууму выражаться оригинальным и неповторимым способом, вплоть до того, чтобы позволять каждому поколению постепенно моделировать его в соответствии с потребностями эпохи, в которой оно живет, Все это говорит в поддержку идеи о том, что этот вид метафорической модели намного, ближе к нуждам церковного искусства — и с церковной, и с художественной точки зрения. Поэтому, в противоположность идее о замене стула яблоком, я предлагаю деликатно заменить базовую парадигму на такую, которая бы больше соответствовала нуждам современного церковного искусства, Другими словами, термины канон и язык, несмотря на то, что они в определенной степени действительно семантически родственны, при долгосрочном парадигматическом употреблении могли бы по-разному влиять на развитие церковного искусства. Постараюсь, это предположение как следует обосновать.
О потребности в новой парадигме.
Конечно, предложенное изменение парадигмы задумано не как пустая игра слов — для
забавы или обогащения словарного запаса, или же ради следования какому-нибудь (актуальному или устаревшему) интеллектуальному тренду. Из общепринятого значения термина парадигма (пример, модель, образец...) в контексте настоящей дискуссии можно было бы извлечь его «активные» аспекты, предполагающие, что образец имеет конкретное влияние в определенном процессе подражания. С этой точки зрения, термин канон — это пример парадигмы, активно влияющей на область, о которой идет речь, поэтому его ни в коем случае нельзя рассматривать лишь как одно из технических понятий отраслевого словаря. (Более того, мой личный опыт показывает, что это слово даже более популярно вне отраслевых рамок).
Возможно, канон нам станет более понятен, если мы подойдем к нему как к определенному виду «концептуальной метафоры» — в том смысле, в каком этот тип феномена толковался в знаменитом исследовании Ланоффа и Дмонсона начала восьмидесятых годов ХХ века [«Метафоры, которыми мы живем». В частности, там говорится, что концепты, которые на самых различных уровнях определяют нашу культуру- это не просто абстрактные понятийные структуры: они сопровождаются богатым иллюстративным материалом, который авторы определили как «концептуальные метафоры». Этот тип образности является, несомненно, не просто фоном наших концептов, но и — осознаем мы это или нет — в большой мере направляет и определяет их. Например, метафора, которая предполагает, что спор это на самом деле определенный вид конфликта, не только произвольно связана с определенными культурными рамками, но и влияет на наше поведение во время дискуссии, Таким образом, мы постоянно «атакуем позиции», «рушим концепции», «защищаем позиции», «попадаем прямо в цель», «используем и разрабатываем стратегии», «выигрываем или проигрываем спор»... Тем
самым картина войны постоянно присутствует в наших спорах и участвует в их оформле-
нии, хотя нет никакой внутрисистемной причины так их структурировать. «В этом смысле мы живем метафорой «спор — это война» в нашей культуре; она структурирует наши
действия в споре».
Другой пример авторы определили как связанную цепь концептуальных метафор: «понимание — это видение; идеи — это источники света; дискурс — это носитель света». Например, когда мы говорим я вижу, что ты хотел сказать», «это выглядит по-другому с моей точки зрения», «это блестящая идея» «в свете приведенных аргументов», «диснуссия была прозрачной», «блестящее замечание», я освещу проблему с другого угла», мы, очевидно, подразумеваем, что собеседник мгновенно (то есть так ме, подразумевая) ориентируется в метафорике, предполагающей представление мысленных объектов в световых и зрительных образах. Трудно оспорить предположение, что эти специфические метафорические наслоения в большой мере влияют на образ нашего мышления: достаточно представить себе, как бы это выглядело, если бы за нашими идеями стоял, например, образ ружейной дроби, за пониманием — образ взрыва, за спором — образ орудия, или если бы мы, с другой стороны, послушали предложение автора и представили «культуру, в которой спор рассматривается как танец, участники — как танцоры, а цель заключается в гармоничном и эстетически привлекательном танцем. Совершенно понятно, что нет такого ума, во всяком случае, в рамках того, что мы понимаем под европейским культурным наследием, который мог бы мыслить с таким гипотетическим образным грузом» — в лучшем случае такое восприятие действительности можно было бы приписать какому-нибудь герою научной фантастики. Конкретные результаты приведенного исследования убедительно показали, что специфические образные наслоения, определенные словосочетанием концептуальные метафоры в большой мере влияют на образ нашего мышления, связывая его не только с действительностью, нас окружающей, но и с отдельным/конкретным человеческим телом, без которого концепты (все
же) не могут существовать?
И в то время, как происхождение приведенных здесь примеров концептуальных метафор, как нам кажется, следовало бы искать в наиболее глубоких слоях нашей культуры в греческом агональном духе или в когнитивном первенстве визуального восприятия в рамках греко-римской цивилизации, метафорическое связывание мотива «список правил» с церковным искусством, как мы уже могли убедиться, это намного более поздний умственный эксперимент с очень сомнительным происхождением и такими не сомнительными эффектами. И так, теперь уже ясно, что, когда мы произносим фразы «эта икона нанонична» или «икона написана по канонам», чаще всего даже не думая, мы подразумеваем намного более широкий метафорический фон, в значительной мере определяющий наше поведение по отношению к иконе, Если при этом такие фразы используются настолько часто и, безусловно, насколько это сегодня представлено в области церковного искусства, становится понятно, что слово канон — не только тихий и галантный спутник современной живописи, а могущественный когнитивный «серый кардинал, влияющий на всех ве участников. Таким образом, если согласиться, что за идеей возрождения средневекового стиля в церковном искусстве стоит образ «канона» как нормативно-алгоритмической совокупности правил, которая полностью определяет появление иконы, то рано или поздно мы придем к сомнительным результатам, описанным в начале, Другими словами, задавать вопрос написана ли эта икона по канонам и отвечать на него — значит соглашаться на заданную общепринятую картину мира, которая предполагает именно то, что говорил Дидрон о средневековых художниках (про ласточек и пчел). Или, если подстроиться под чуть более современную и более городскую терминологию, которая, несомненно, блине неовизантийскому художнику: «удожник — определенный тип чиновника, выполняющий свою работу исключительно по заранее обозначенным образцам и нормам». Однако, похоже, подобные метафорические рамки стали слишком тесными для современного церковного искусства. Кажется, что и художники, и богословы начали соглашаться с предположением, что эта форма искусства могла бы предложить Церкви и миру много больше, чем аккуратно заполненные административные формуляры. Более того, церковное искусство,
если оно претендует на какую-либо связь с собственной традицией, по сути, должно было бы сознательно отказаться от тех концептуально-метафорических наслоений, которые его превратили в искусство» заполнения формуляров.
Для чего нужна смена парадигмы и как ее провести?
Сейчас мы наконец можем привести основную идею этой дискуссии в эксплицитной форме: воли в будущем вместо вопроса «написаны ли эти иконы по канонам» мы будем задавать иконописцам вопрос «написаны ли эти иконы в соответствии с языком церновного искусства», или (если мы захотим быть немного более поэтичными) «написаны ли эти иконы в духе языка церковного искусства», отношение к этому искусству могло бы значительно измениться — в сторону достижения той выразительности, которую средневековое искусство достигало в свое время. Таким образом, и церковная, и художественная, и традиционная, и творческая, и коллективная, и индивидуальная стороны современной живописи могли бы быть не только уравновешены, но и значительно развиты. Другими словами, замена избыточной метафорики, основанной на вообранаемом списке правил, метафорикой, основанной на (художественном) языке, который: 1) действительно существует, 2) имеет свои правила и традицию, 3) оставляет более чем достаточно свободы для личного художественного выражения, здесь кажется прекрасной возможностью нак с богословской, так и с эстетической точки зрения.
Цитата: Церковное искусство, если оно претендует на связь собственной традицией, должно было бы отказаться от тех концептуально-метафорических наслоений, которые его превратили в «искусство» заполнения формуляров.
Несомненно, не стоит быть наивными и надеяться на то, что парадигму можно сменить при помощи какого-нибудь декрета или не «по личному требованию», Как мы видели на
примере «яблока и стула», изменения такого плана происходят нелегко. Замена парадигмы, по сути, достигается лишь тогда, когда сообщество, ее использующее, и языковая структура, в которой она размещена, выразят потребность в ее замене. Эта потребность может быть высказана или же сгенерирована действием индивидуума, но замена произойдет только в том случае, если внутренняя логина языка и сообщество пользователей ее поддержат, Предшествующие размышления основываются на предположении, что церковное искусство конца ХХ и начала ХI века уже показало ту зрелость и самосознание, которые свидетельствуют о реальной потребности в замене парадигматических рамок, в которых оно движется. От читателя, который включается в дискуссию, в свою очередь, ожидается согласие на определенный умственный эксперимент, который мог бы показать, действительно ли пришло время для такого вида изменений.
Цитата: Если наши современные иконы не останутся лишены поэтического аспекта, который может появиться благодаря живому авторскому употреблению языковых правил, мы сможем сказать, что они опираются на живую и аутентичную традицию средневекового искусства.
Прежде чем, напоследок, мы действительно попробуем отправиться в какую-нибудь иконописную мастерскую с намерением задать первый, второй или же какой-то другой вопрос, следовало бы хотя немного подумать о том, каким образом предложенная смена парадигмы повлияла бы на формирование того, что мы сегодня понимаем под иконописной мастерской. Точнее, как бы она могла повлиять на образование и формирование современного живописца? Возможно, было бы полезнее переосмыслить образование иконописца как освоение какого-либо разговорного языка, чем определять его как процесс запоминания алгоритмического списка правил, точное применение которых гарантирует быстрые, легкие и надежные результаты. А такую живую систему можно освоить только на практике. Только когда мы изучим и хорошо освоим множество разных примеров из «речевой» практики, языковая система (правил) сможет зажить в нас так, чтобы ее можно было начать применять, Тогда правила, в случае с художественным языком, все труднее вербально сформулировать, потому что процесс их запоминания протекает в пространстве визуального (невербального) посредничества, в котором выражается художник.
При освоении разговорного языка невозможно, например, усваивать только правила, если перед этим не был усвоен сам способ (язык), с помощью которого они могли бы быть переданы. С другой стороны, без предварительно усвоенных правил нет языка. Вопреки этому пугающему логическому парадоксу, разговорный язык учится легко. Совершенно очевидно, что единственный способ усвоить правила — это упорно повторять конкретные примеры их употребления — без страха, подобно детям, и с бесчисленными ошибками, которые неизбежно будут появляться. Таким образом, правила усваиваются естественно, а их применение не представляет собой никакой проблемы для тех, кто их использует, это лишь способ их существования в обществе. Итак, наконец, если правила действительно усваиваются за счет простого подражания, то они ведут не к подражанию, а к оригинальному, персональному обновлению выразительных потенциалов, содержащихся в традиционной языковой структуре.
Конечно, чудесный процесс овладения разговорным языком мы повторить не можем, но можем из него многому научиться, а так же кое-что применить в нашей ограниченной человеческой педагогике. Этот опыт из разговорного языка для начала мог бы быть использован как «метафорический концепт», с помощью которого можно было бы определить идеал, к которому следует стремиться. Только тогда, когда язык иконы мы усвоим до той точки, когда не будем думать о способе, с помощью которого сможем что-либо выражать (техника, правила, исполнение...), мы будем в состоянии полностью сосредоточиться на том, что мы хотим выразить.
Некоторые практические последствия такого подхода должны быть совершенно очевидными. Иконопись, таким образом, невозможно воспринимать как ремесло, которое усваивается за шесть месяцев в мастерской какого нибудь опытного иконописца (потенциально обеспечивая и место в производственной цепи), как это слишком часто случается сегодня. Иконописи — это важно повторить — действительно можно научиться, только если усердно изучать различные примеры из истории искусств и их постоянно сопоставлять, друг с другом. Только когда все формальные знания/опыт, полученные при художественном обучении, пройдут через такую призму, будет возможно на конкретных исторических примерах увидеть сходства и различия в способах, которыми конкретным мастерам удавалось художественно изобразить преобраменную природу, или — на богословском языке — в способах, которыми они художественными средствами передавали ее фаворское преображение. В итоге, только когда при усердном повторении иконописец действительно усвоит правила иконописного языка, он сможет приступить к своему настоящему художественному совершенствованию, Как и в случае с разговорным языком, только когда конкретный индивидуум хорошо овладеет языком, он сможет обратиться к литературным формам. И только позднее время покажет, действительно ли эти достижения являются искусством или нет, С другой стороны, лишь тогда, когда язык воплощен в истинной, художественно возвышенной поэзии или прозе, о нем можно сказать, что он вышел за рамки первобытной или же утилитарной сферы коммуникации. Только если наши современные иконы не останутся лишены этого поэтического аспекта, который может появиться лишь благодаря живому авторскому употреблению языковых правил, мы сможем сказать, что они на самом деле опираются на (когда-то) живую и аутентичную традицию величественного средневекового искусства. Только тогда в них действительно заструится такая жизнь, которая и по сей день струится в старинных иконах, вдохновляя всех поклонников этого древнего искусства. Не нужно забывать, что от существования такого живого вдохновения будет зависеть отношение как религиозного, так и нерелигиозного созерцателя, стоящего перед иконой. Если хоть один из них останется перед иконой равнодушным, тогда нам следует задуматься, действительно ли живопись все еще является богословием в красках или мы расписываем церкви только потому, что кто-то это делал до нас.
'Ситья пронллюстрирована фрагментами росвисей ХМ в.
из монастыря Высокие Дечаны (Сербия), фресок
архимандрита Зинона в поселке Сенхоз, 2057 г, росписей
ППокрово-Никольсногохрама в Клайпеде, выполненных
бригадой Олега Шурюса, 2038-2037 т.
Почему концепция «языка церковного искусства» может стать альтернативой
(статья с журнала «Дары», Москва-2019)
Новое эссе сербского иконописца и искусствоведа Тодора Митровича очень созвучно тем дискуссиями которые идут в России в последние годы. Понимание канона как свода жестких и неизменных правил стало одной из главных причин тех кризисных тенденций, которые всё более заметны в современной иконописи. Но если отказаться от юридического, формально нормативного подхода, что же тогда останется? Автор убежден, что в наш язык должны вернуться такие понятия как канон истины и канон благочестия.
«Эти иконы написаны по канонам?» Вопрос, который часто задают современному иконописцу, звучит как вопрос, обращенный к инженеру: «это здание построено в соответствии с существующими нормами (Ведь, если нет, оно обрушится нам на голову...) Или, если мы постараемся согласовать метафорику с потребностями религиозного контекста, этот вопрос мог бы прозвучать как типичная ветхозаветная законническая дилемма (например, производителя продуктов: питания): «эта еда кошерная или нет?
Сразу же ясно, что мы говорим об абсолютно экоклюзивистской когнитивной позиции, предполагающей, что правильное церковное искусство появится — практически по волшебству — если произведение создано в соответствии с «таинственным» рецептом, Таким образом, если представить себе, что этот вопрос задает заказчик иконы, то появляется совершенно эксклюзивный товар для эксклюзивной группы потребителей. Таковым его делают правила, по которым он произведен. Использовать его не запрещено и «других но для членов группы, которая хочет выделиться/определиться, он обязателен и является важным аспектом ее идентичности.
К сожалению, опущение полемики до базарного уровня — не пародия, во всяком случае, когда речь идет преимущественно о православных сообществах, ведь эта эксклюзивная группа не так уж малочисленна. Современные иконописцы слишком часто соглашаются на роль торговца, довольно потирая руки над заработком, который и создает описанный религиозный контекст: товар, изготовленный по традиционной рецептуре, учитывая ее ни больше ни меньше как тысячелетнее существование, естественно, гарантирует качество и благосклонность к ней рынка, на котором православные конфессиональные рамки требуют «стандартизации качества». Это естественным образом привело к появлению необычных компаний по производству «рукописных» икон, чьи совершенно стандартизованные, а точнее, идентичные «товары» наводняют рынок религиозных «благ», а эстетика без выражения, которую это наводнение рекламирует как эксклюзивно «церковную, шаг за шагом внедряется и в иконостасы (или стены) важнейших православных храмов. И, наконец, в этой стабильной производственно экономико-пропагандистской сети у всех есть возможность остаться совершенно довольными: во-первых, производственный процесс надежный, стабильный и дешевый, поскольку не обременяет художника/производителя лишними дилеммами и решениями; во-вторых, заказчик/покупатель доволен, поскольку получает стабильное качество по пристойной цене; и, наконец, в-третьих, церковноначалие довольно, поскольку продукция икон постоянно растет, следуя многовековой церковной традиции. Короче, и стандарт, и удобство, и гарантия обеспечены всем участникам этой религиозно-рыночной игры.
Наконец, слова, с помощью которых знаменитый Французский исследователь Адольф Наполеон Дидрон в далеком 1845 году описал византийское искусство применительно к устоявшемуся таким образом социальному договору, звучат как пророческая формула «неовизантийского» возрождения живописи: «Греческий художник — раб теолога, Его работа — модель для его наследников точно так же, как и копия работ его предшественников. Художник связан традицией, как животное связано инстинктами. Он производит изображения так же, как ласточка вьет свое гнездо, а пчела делает улей. Он отвечает только за исполнение, в то время как о замысле и об идее позаботились его предки, теологи, Кафолическая Церковь». К счастью, искусствоведение — ни на западе, ни на востоке Европы — не приняло столь одностороннюю и упрощенную категоризацию в процессе развития когнитивного аппарата, который даст ей возможность увидеть в византийском искусстве одно из самых оригинальных и наиболее возвышенных (изобразительных) выражений европейского культурного наследия. С другой стороны, к сожалению, какой то невидимый консенсус, мотивированный/генерированный ожидаемым, но иррациональным страхом потерять только что открытую традицию, превращает Православную Церковь в преемницу мрачной «мантры» Дидрона. Это консенсус обрекает новообразовавшиеся искусство стать бледной тенью того наследия, которое оно должно было оживить. Однако создается впечатление, что конец ХХ — начало ХХI века все-таки внесли некоторые изменения в отношение Церкви к изобразительному искусству, как в богословском, лак и в художественном плане.
Вначале стоит задаться вопросом, существует ли какой-нибудь другой подход к парадигме канона, отличающийся от юридического, нормативного (трудно избежать слова стерильного), полноценно обосновавшегося в современном восприятии и исполнении церковного искусства? Кажется, история самого термина монет подтолкнуть к некоторым размышлениям. «В первые три века [слово] канон (κανών) служит в первую очередь для того, чтобы подчеркнуть то, что для христианства является внутренним законом и обязательной нормой.
Маловероятно, что оно когда-то употреблялось во множественном числе» В своих трех вариантах это слово играет значительную роль в ранней Церкви: как канон истины, как канон благочестия/веры и как канон Церкви, или церковности, С IV века происходит серьезная (решающая) перемена: «к общему употреблению добавляется описание некоторых объектов в церкви словом канон (κανών) или канонический (κανονικός). Следовательно, слово канон начинает употребляться во множественном числе и обозначать список: 1) список соборных решений — отсюда каноническое право, 2) список книг Священного Писания — канон Ветхого и Нового Завета, или 3) список священства и монашества одной области (епархии). Тем самым эта мера истины, благочестия и церковности, которая первоначально была ближе к таким общим понятиям, как традиция или предание, приобрела административную форму списка или
каталога, которая, в свою очередь, больше ассоциируется с такой формализованной, нормированной областью познания, как например, право, логика или, наконец, (выше уже употреблявшееся метафорически) строительство. Поскольку понятно, что, несмотря на многочисленные богословские познания нашего времени, современная церковная жизнь все же руководствуется дисциплиной, нехарактерной для ранней Церкви, а появившейся в имперских рамнах, совершенно естественно и то, что концепт канона/каноничности мы унаследовали именно в той форме, в которой его предоставила культура империи с Босфора, Однако чем же эти стародавние изменения парадигмы могут быть важны в разговоре о современном церковном искусстве?
Природа иконописного канона: существуют ли правила и где они записаны?
Тема, однако, становится еще более интересной, когда мы понимаем, что, если речь идет конкретной церковной художественной практике, то списка/каталога канона в действительности никогда не существовало. Соборные каноны определяют сам факт того, что иконы надо писать, но совершенно не описывают способ, как это будет выполняться. Единственное оставшееся место, где можно было бы встретить какой-либо список художественных правил, это старые руководства для живописцев, Однако инструкции, которые предлагаются в этих руководствах, это очень нечеткие «каноны»: они слишком обобщены и могут применяться к совершенно разным стилистическим решениям. Кроме, например, факта, что фигура на иконе пишется с помощью роскрыши — от темного (и холодного) слоя (проплазмы) к более светлым (теплым) высветлениям (инкарнату), по этим инструкциям трудно чему-либо научиться, Более того, их строгое применение, в сочетании с развившейся репродуктивной техникой и специфической эстетикой, которую она порождает, привело в современной иконописи к очень холодным и стерильным художественными результатам, которые ни в чем не могут сравниться с оригинальными византийскими решениями. Современная иконопись, как кажется, вопреки своему величественному предку, — истинное воплощение сомнительных слов Дидрона, которые мы привели в начале, Что мешает современным иконописцам, применив эти простые и общие правила ремесла, записанные в руководствах, создать шедевры живописи и богословия такими, какими были их средневековые образцы?
Цитата: Поскольку непрерывность художественного предания нарушена, очевидно, что не существует способа добраться до его устного аспекта, Тех, кто был его носителем, попросту больше нет в живых.
Неизбежно предположение, что кроме того, что записано в руководствах, существовало и множество рекомендаций, основанных на конкретной живописной практике или выведенных из теории, которые просто не были записаны. Похоже, что именно эти рекомендации и повлияли на то, что средневековая живопись несопоставимо глубже и живее свидетельствует о вере той Церкви, которая ее породила, чем сегодняшняя. Информацию, которую содержали эти рекомендации, можно обозначить как незаписанное художественное церковное предание. Поскольку предание прервано, то и неуди вительно, что сложнее всего восстановить именно его не записанную часть. Также вполне онидаемо, что без этой «базы», которая, судя по всему, была очень значительной, современное церковное искусство выглядит крайне обедненным — и в художественном, и в богословском смысле.
Но имеет ли вообще смысл говорить о чем то, что нам недоступно? Поскольку непрерывность художественного предания нарушена, очевидно, что не существует способа добраться до его устного аспекта. Тех, кто был его носителем, попросту больше нет в живых. По счастью, слово «устное» мы должны воспринимать крайне условно. В то время как богословы свои толкования, в чьих изменениях естественно сублимируется и то, что можно назвать устным богословским преданием, испытывали потребность постоянно, и обширно записывать, художники в этом вопросе были не слишком усердны. Просто потому, что свое предание они записывали кистью и красками, Их «устное» предание уже содержится в самих иконах, поэтому у них и не было потребности писать схолии к своим руководствам. Вернее даже сказать, что их руководства и были своеобразными (педагогическими) схолиями к основному художественному тексту, зафиксированному на расписанных поверхностях. В этом смысле следовало бы пересмотреть соотношение центральной и периферийной тематики. Может быть, стоит просто признать, что то, что в современном дискурсе об иконе — благодаря, среди прочего, не критичному подходу
к древним руководствам — становится центральной темой, когда-то было лишь свовобразной технической схолией. Поэтому нет ничего удивительного, что этот жанр переживает расцвет именно во времена угасания традиции, которую он пытается увековечить.
Таким образом, незаписанное предание, которое от нас как-то ускользает при чтении старых художественных руководств, содержится (записано) в самой теме, которую они толкуют— конкретных художественных произведениях, К этой теме средневековый ученик: подходил, наблюдая за творениями учителя и за тем, как они появлялись. Сейчас мы уже можем уточнить: созерцательная, а не устная линия предания прервана. Единственный способ ее обновить — попытаться более основательно и без предрассудков познакомиться с конкретными произведениями истории церковного искусства, Только внимательное наблюдение и различение постоянных, изменяемых или же произвольных элементов, составляющих развитие языка иконы на протяжении истории, может помочь нам постепенно научиться читать на этом языке. Без внимательного знакомства с живым художественным языком истинных шедевров изучение руководств оказалось бесполезной работой. Только тогда, когда мы научимся читать, можно будет приступать к письму.
Возможен ли «лингвистический поворот».
с опозданием?
Наконец у нас появилась метафорика, которая могла бы нам помочь вынести идею канона за техническо-юридические рамки, которые, как видно, не слишком способствовали сохранению изначального характера церковного искусства. И что же произойдет, если то, что определяет связь церковного искусства с традицией, мы обозначим не понятием канон, а понятием язык? Вернее, что случится, если нормативный аспект церковного искусства приобретет языковой семантический признан? Такое отождествление канона и языка — для современной теории (искусств) было бы более чем естественной (и нисколько не инновационной) идеей. Однано у церновного искусства не было возможности испытать какую бы то ни было форму лингвистического поворота», оно, судя по всему, до сих пор придерживается 19-векового когнитивного заблуждения, которое сформулировал, например, Дидрон.
Забудет ли церковное искусство свою традицию, если лишить ее военной дисциплины и перенести ее на менее жесткую «лингвистическую» модель? Выше мы установили, что именно ранняя история церковного употребления понятия нанон может отсылать к чему то совершенно противоположному. Слово канон тогда, как и слово язык сейчас, используются в единственном числе, и под ними можно понимать живые и слоеные коммуникативные структуры, основанные именно на традиции. Языковые нормы, в сущности, постоянно требуют живого отношения к (языковой) традиции. Именно поэтому языки не умирают с легкостью, так же как и с легкостью не возрождаются. Современная теория, которая давно забыла про отвержение любых правил, свойственное авангардизму, предполагает, что без каких-либо заранее (в близком или далеком прошлом) обозначенных языковых рамок — которые в нашем контексте можно было назвать и словом традиция — не может существовать ни одна форма коммуникации. Кажется, что в таких рамках и традиционный/конвенциональный, и художественный/экспрессивный аспекты церковной живописи могут быть в выигрыше, Языковые структуры очень консервативны и не склонны к изменениям, не из-за какой-то идеологии, которая бы этого требовала, а из-за базовой потребности в понимании. Изменения в языке происходят нелегко, потому что язык — это не частная собственность, а поэтому и не подлежит капризам индивидуумов. Можно, например, всю жизнь называть яблоко стулом, а стул яблоком, но тогда люди каждый раз будут над тобой (в лучшем случае) смеяться. Точно так же, с другой стороны, язык удивительно динамичная структура, которая постоянно меняется и преобразуется, давая возможность каждому индивидууму выражаться оригинальным и неповторимым способом, вплоть до того, чтобы позволять каждому поколению постепенно моделировать его в соответствии с потребностями эпохи, в которой оно живет, Все это говорит в поддержку идеи о том, что этот вид метафорической модели намного, ближе к нуждам церковного искусства — и с церковной, и с художественной точки зрения. Поэтому, в противоположность идее о замене стула яблоком, я предлагаю деликатно заменить базовую парадигму на такую, которая бы больше соответствовала нуждам современного церковного искусства, Другими словами, термины канон и язык, несмотря на то, что они в определенной степени действительно семантически родственны, при долгосрочном парадигматическом употреблении могли бы по-разному влиять на развитие церковного искусства. Постараюсь, это предположение как следует обосновать.
О потребности в новой парадигме.
Конечно, предложенное изменение парадигмы задумано не как пустая игра слов — для
забавы или обогащения словарного запаса, или же ради следования какому-нибудь (актуальному или устаревшему) интеллектуальному тренду. Из общепринятого значения термина парадигма (пример, модель, образец...) в контексте настоящей дискуссии можно было бы извлечь его «активные» аспекты, предполагающие, что образец имеет конкретное влияние в определенном процессе подражания. С этой точки зрения, термин канон — это пример парадигмы, активно влияющей на область, о которой идет речь, поэтому его ни в коем случае нельзя рассматривать лишь как одно из технических понятий отраслевого словаря. (Более того, мой личный опыт показывает, что это слово даже более популярно вне отраслевых рамок).
Возможно, канон нам станет более понятен, если мы подойдем к нему как к определенному виду «концептуальной метафоры» — в том смысле, в каком этот тип феномена толковался в знаменитом исследовании Ланоффа и Дмонсона начала восьмидесятых годов ХХ века [«Метафоры, которыми мы живем». В частности, там говорится, что концепты, которые на самых различных уровнях определяют нашу культуру- это не просто абстрактные понятийные структуры: они сопровождаются богатым иллюстративным материалом, который авторы определили как «концептуальные метафоры». Этот тип образности является, несомненно, не просто фоном наших концептов, но и — осознаем мы это или нет — в большой мере направляет и определяет их. Например, метафора, которая предполагает, что спор это на самом деле определенный вид конфликта, не только произвольно связана с определенными культурными рамками, но и влияет на наше поведение во время дискуссии, Таким образом, мы постоянно «атакуем позиции», «рушим концепции», «защищаем позиции», «попадаем прямо в цель», «используем и разрабатываем стратегии», «выигрываем или проигрываем спор»... Тем
самым картина войны постоянно присутствует в наших спорах и участвует в их оформле-
нии, хотя нет никакой внутрисистемной причины так их структурировать. «В этом смысле мы живем метафорой «спор — это война» в нашей культуре; она структурирует наши
действия в споре».
Другой пример авторы определили как связанную цепь концептуальных метафор: «понимание — это видение; идеи — это источники света; дискурс — это носитель света». Например, когда мы говорим я вижу, что ты хотел сказать», «это выглядит по-другому с моей точки зрения», «это блестящая идея» «в свете приведенных аргументов», «диснуссия была прозрачной», «блестящее замечание», я освещу проблему с другого угла», мы, очевидно, подразумеваем, что собеседник мгновенно (то есть так ме, подразумевая) ориентируется в метафорике, предполагающей представление мысленных объектов в световых и зрительных образах. Трудно оспорить предположение, что эти специфические метафорические наслоения в большой мере влияют на образ нашего мышления: достаточно представить себе, как бы это выглядело, если бы за нашими идеями стоял, например, образ ружейной дроби, за пониманием — образ взрыва, за спором — образ орудия, или если бы мы, с другой стороны, послушали предложение автора и представили «культуру, в которой спор рассматривается как танец, участники — как танцоры, а цель заключается в гармоничном и эстетически привлекательном танцем. Совершенно понятно, что нет такого ума, во всяком случае, в рамках того, что мы понимаем под европейским культурным наследием, который мог бы мыслить с таким гипотетическим образным грузом» — в лучшем случае такое восприятие действительности можно было бы приписать какому-нибудь герою научной фантастики. Конкретные результаты приведенного исследования убедительно показали, что специфические образные наслоения, определенные словосочетанием концептуальные метафоры в большой мере влияют на образ нашего мышления, связывая его не только с действительностью, нас окружающей, но и с отдельным/конкретным человеческим телом, без которого концепты (все
же) не могут существовать?
И в то время, как происхождение приведенных здесь примеров концептуальных метафор, как нам кажется, следовало бы искать в наиболее глубоких слоях нашей культуры в греческом агональном духе или в когнитивном первенстве визуального восприятия в рамках греко-римской цивилизации, метафорическое связывание мотива «список правил» с церковным искусством, как мы уже могли убедиться, это намного более поздний умственный эксперимент с очень сомнительным происхождением и такими не сомнительными эффектами. И так, теперь уже ясно, что, когда мы произносим фразы «эта икона нанонична» или «икона написана по канонам», чаще всего даже не думая, мы подразумеваем намного более широкий метафорический фон, в значительной мере определяющий наше поведение по отношению к иконе, Если при этом такие фразы используются настолько часто и, безусловно, насколько это сегодня представлено в области церковного искусства, становится понятно, что слово канон — не только тихий и галантный спутник современной живописи, а могущественный когнитивный «серый кардинал, влияющий на всех ве участников. Таким образом, если согласиться, что за идеей возрождения средневекового стиля в церковном искусстве стоит образ «канона» как нормативно-алгоритмической совокупности правил, которая полностью определяет появление иконы, то рано или поздно мы придем к сомнительным результатам, описанным в начале, Другими словами, задавать вопрос написана ли эта икона по канонам и отвечать на него — значит соглашаться на заданную общепринятую картину мира, которая предполагает именно то, что говорил Дидрон о средневековых художниках (про ласточек и пчел). Или, если подстроиться под чуть более современную и более городскую терминологию, которая, несомненно, блине неовизантийскому художнику: «удожник — определенный тип чиновника, выполняющий свою работу исключительно по заранее обозначенным образцам и нормам». Однако, похоже, подобные метафорические рамки стали слишком тесными для современного церковного искусства. Кажется, что и художники, и богословы начали соглашаться с предположением, что эта форма искусства могла бы предложить Церкви и миру много больше, чем аккуратно заполненные административные формуляры. Более того, церковное искусство,
если оно претендует на какую-либо связь с собственной традицией, по сути, должно было бы сознательно отказаться от тех концептуально-метафорических наслоений, которые его превратили в искусство» заполнения формуляров.
Для чего нужна смена парадигмы и как ее провести?
Сейчас мы наконец можем привести основную идею этой дискуссии в эксплицитной форме: воли в будущем вместо вопроса «написаны ли эти иконы по канонам» мы будем задавать иконописцам вопрос «написаны ли эти иконы в соответствии с языком церновного искусства», или (если мы захотим быть немного более поэтичными) «написаны ли эти иконы в духе языка церковного искусства», отношение к этому искусству могло бы значительно измениться — в сторону достижения той выразительности, которую средневековое искусство достигало в свое время. Таким образом, и церковная, и художественная, и традиционная, и творческая, и коллективная, и индивидуальная стороны современной живописи могли бы быть не только уравновешены, но и значительно развиты. Другими словами, замена избыточной метафорики, основанной на вообранаемом списке правил, метафорикой, основанной на (художественном) языке, который: 1) действительно существует, 2) имеет свои правила и традицию, 3) оставляет более чем достаточно свободы для личного художественного выражения, здесь кажется прекрасной возможностью нак с богословской, так и с эстетической точки зрения.
Цитата: Церковное искусство, если оно претендует на связь собственной традицией, должно было бы отказаться от тех концептуально-метафорических наслоений, которые его превратили в «искусство» заполнения формуляров.
Несомненно, не стоит быть наивными и надеяться на то, что парадигму можно сменить при помощи какого-нибудь декрета или не «по личному требованию», Как мы видели на
примере «яблока и стула», изменения такого плана происходят нелегко. Замена парадигмы, по сути, достигается лишь тогда, когда сообщество, ее использующее, и языковая структура, в которой она размещена, выразят потребность в ее замене. Эта потребность может быть высказана или же сгенерирована действием индивидуума, но замена произойдет только в том случае, если внутренняя логина языка и сообщество пользователей ее поддержат, Предшествующие размышления основываются на предположении, что церковное искусство конца ХХ и начала ХI века уже показало ту зрелость и самосознание, которые свидетельствуют о реальной потребности в замене парадигматических рамок, в которых оно движется. От читателя, который включается в дискуссию, в свою очередь, ожидается согласие на определенный умственный эксперимент, который мог бы показать, действительно ли пришло время для такого вида изменений.
Цитата: Если наши современные иконы не останутся лишены поэтического аспекта, который может появиться благодаря живому авторскому употреблению языковых правил, мы сможем сказать, что они опираются на живую и аутентичную традицию средневекового искусства.
Прежде чем, напоследок, мы действительно попробуем отправиться в какую-нибудь иконописную мастерскую с намерением задать первый, второй или же какой-то другой вопрос, следовало бы хотя немного подумать о том, каким образом предложенная смена парадигмы повлияла бы на формирование того, что мы сегодня понимаем под иконописной мастерской. Точнее, как бы она могла повлиять на образование и формирование современного живописца? Возможно, было бы полезнее переосмыслить образование иконописца как освоение какого-либо разговорного языка, чем определять его как процесс запоминания алгоритмического списка правил, точное применение которых гарантирует быстрые, легкие и надежные результаты. А такую живую систему можно освоить только на практике. Только когда мы изучим и хорошо освоим множество разных примеров из «речевой» практики, языковая система (правил) сможет зажить в нас так, чтобы ее можно было начать применять, Тогда правила, в случае с художественным языком, все труднее вербально сформулировать, потому что процесс их запоминания протекает в пространстве визуального (невербального) посредничества, в котором выражается художник.
При освоении разговорного языка невозможно, например, усваивать только правила, если перед этим не был усвоен сам способ (язык), с помощью которого они могли бы быть переданы. С другой стороны, без предварительно усвоенных правил нет языка. Вопреки этому пугающему логическому парадоксу, разговорный язык учится легко. Совершенно очевидно, что единственный способ усвоить правила — это упорно повторять конкретные примеры их употребления — без страха, подобно детям, и с бесчисленными ошибками, которые неизбежно будут появляться. Таким образом, правила усваиваются естественно, а их применение не представляет собой никакой проблемы для тех, кто их использует, это лишь способ их существования в обществе. Итак, наконец, если правила действительно усваиваются за счет простого подражания, то они ведут не к подражанию, а к оригинальному, персональному обновлению выразительных потенциалов, содержащихся в традиционной языковой структуре.
Конечно, чудесный процесс овладения разговорным языком мы повторить не можем, но можем из него многому научиться, а так же кое-что применить в нашей ограниченной человеческой педагогике. Этот опыт из разговорного языка для начала мог бы быть использован как «метафорический концепт», с помощью которого можно было бы определить идеал, к которому следует стремиться. Только тогда, когда язык иконы мы усвоим до той точки, когда не будем думать о способе, с помощью которого сможем что-либо выражать (техника, правила, исполнение...), мы будем в состоянии полностью сосредоточиться на том, что мы хотим выразить.
Некоторые практические последствия такого подхода должны быть совершенно очевидными. Иконопись, таким образом, невозможно воспринимать как ремесло, которое усваивается за шесть месяцев в мастерской какого нибудь опытного иконописца (потенциально обеспечивая и место в производственной цепи), как это слишком часто случается сегодня. Иконописи — это важно повторить — действительно можно научиться, только если усердно изучать различные примеры из истории искусств и их постоянно сопоставлять, друг с другом. Только когда все формальные знания/опыт, полученные при художественном обучении, пройдут через такую призму, будет возможно на конкретных исторических примерах увидеть сходства и различия в способах, которыми конкретным мастерам удавалось художественно изобразить преобраменную природу, или — на богословском языке — в способах, которыми они художественными средствами передавали ее фаворское преображение. В итоге, только когда при усердном повторении иконописец действительно усвоит правила иконописного языка, он сможет приступить к своему настоящему художественному совершенствованию, Как и в случае с разговорным языком, только когда конкретный индивидуум хорошо овладеет языком, он сможет обратиться к литературным формам. И только позднее время покажет, действительно ли эти достижения являются искусством или нет, С другой стороны, лишь тогда, когда язык воплощен в истинной, художественно возвышенной поэзии или прозе, о нем можно сказать, что он вышел за рамки первобытной или же утилитарной сферы коммуникации. Только если наши современные иконы не останутся лишены этого поэтического аспекта, который может появиться лишь благодаря живому авторскому употреблению языковых правил, мы сможем сказать, что они на самом деле опираются на (когда-то) живую и аутентичную традицию величественного средневекового искусства. Только тогда в них действительно заструится такая жизнь, которая и по сей день струится в старинных иконах, вдохновляя всех поклонников этого древнего искусства. Не нужно забывать, что от существования такого живого вдохновения будет зависеть отношение как религиозного, так и нерелигиозного созерцателя, стоящего перед иконой. Если хоть один из них останется перед иконой равнодушным, тогда нам следует задуматься, действительно ли живопись все еще является богословием в красках или мы расписываем церкви только потому, что кто-то это делал до нас.
'Ситья пронллюстрирована фрагментами росвисей ХМ в.
из монастыря Высокие Дечаны (Сербия), фресок
архимандрита Зинона в поселке Сенхоз, 2057 г, росписей
ППокрово-Никольсногохрама в Клайпеде, выполненных
бригадой Олега Шурюса, 2038-2037 т.